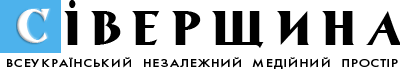Література як дзеркало... Ч.2
Навряд чи всі читали цього російського письменника; можливо, що й не чули ніколи – Іван Шмельов. Емігрант, суперник Івана Буніна в претендуванні на отримання Нобелівської премії. Ностальгуючі до розчулення спогади про дореволюційну Росію – основа його творчості. Але цим вони і цікаві для нас – тут вигадки немає, все передано так, як побачив автор у семилітньому віці, коли разом із простими прочанами пройшов пішки з Москви до Троїцько-Сергієвого Посаду на прощу в Лавру. У кого з читачів добра уява, той в цих уривках побачить для себе опуклу картину життя Росії кінця ХІХ століття – реальну, без лубочних прикрас.
Иван Шмелёв. «БОГОМОЛЬЕ».
… И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:
– Эка какая хитрость – по машине… А ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют – с машиной не поравнять никак.
…К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся – где же на всех хватит. Прибегает Брехунов и начинает кричать: «Как они пробрались? Гнать их в шею!» Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Брехунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:
– Мы кусками швыряемся, а вон… А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут… там кого другого поволокут.
И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брехунов оправдывается, что они сквозь землю пролезут… что вам-то хорошо – попили да пошли, а его прямо одолели!..
– «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают…
– Если бы я был царь, – говорит Федя, – я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы… бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба… А то зимой сколько таких позамерзает!
…Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках – играют-сверкают крестики. Я кричу:
– Крестики, крестики на воде!..
И все говорят на речку:
– А и вправду… с солнышка крестики играют словно!
Речка кажется мне святой. И кругом все – святое.
Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, – захватила жара в дороге, – в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:
– Благоде-тели… ми-лостивцы, подайте святую милостинку… убогому-безногому… родителев-сродников… для-ради Угодника, во телоздравие, во душеспасение…
Анюта говорит, что видела страшенного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает – всего увидим у Троицы, со всей Расеи туда сползаются. Говорят: вон там какой болезный!
На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать – душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От больного ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.
– От горя не отворачивайся… грех это!
В ногax у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами: «Дунька… помочи-и…» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалобно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегают слезы:
– Уж такая беда лихая с нами… Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то… на колдобине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец… третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-е-лый да румяный… табе не хуже!
Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.
– И все-то во снях видит… – жалостно говорит старуха, – все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»
Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.
– Михайлой звать-то, – радостно говорит старушка. – Мишенькой зовем.
– Выходит – тезка мне. Ну, Миша, молись – встанешь! – говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.
Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:
– Этот вот старичок сказал, уж ему известно… обязательно, говорит, встанет на ноги… уж ему известно!
Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, – «такой-то ласковый старичок, все знает!».
…На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:
– Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши… сразу исцелится, разделает комаря… таких тут много!
Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:
– Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!
Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:
– Кнутьями их, чертей! Такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..
А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился – а он всегда очень скромный. Горкин его зовет – «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:
– Нехорошо так! Не наводите на грех!..
А они ему:
– Молчи, монах! В триковых штанах!..
Ну что с таких взять: охальники!
Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло, одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.
– А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под креста помой, с верой! – говорит он старушке, которая тоже слушает. – Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо.
Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:
– Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресалям, видно… дураки степные!
Старичок им прямо:
– Сам ты водопровод-напор!
И все мы им грозимся и посошками машем:
– Не охальничайте! Веру не шатайте, шатущие!..
И Горкин сказал: пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет… и водопровод от Бога! А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас – плеск из горлышка, крест-накрест!
– Вот вам мое кропило! Исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..
Так все и ахнули. Горкин кричит:
– Анафема вам, охальники!..
И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя – пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку – пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:
– Ку-най их, ку-най!
Федя как был, в лаковых сапогах, – к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:
– Федя, не утони… смирись!..
А он прямо с плачем кричит, что не может дозволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стукал. Тогда те стали молить – отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали – вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, – и в лопухи. Я смотрю: стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:
– Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.
Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:
– Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.
Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:
– Пусть носит за меня, когда исцелится.
Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень беспременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, – а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:
– Родимый ты мой, касатик-милостивец… хорошую невесту Господь те пошлет…
А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:
– Простите меня, грешного… самый я грешный.
И многие тут плакали от радости, и я заплакал.
…Солнце невысоко над лесом, жара спадает. Вон уж и Пушкино. Надо перейти Учу и подняться: Горкин хочет заночевать у знакомого старика, на той стороне села. Переходим Учу по смоляному мосту. В овраге засвежело, пахнет смолой, теплой водой и рыбой. Выше – еще тепло, тянет сухим нагревом, еловым, пряным. Стадо вошло в деревню, носятся табунками овцы, стоит золотая пыль. Избы багряно золотятся. Ласково зазывают бабы:
– Чай, устали, родимые? Ночуйте… свежего сенца постелим, ни клопика, ни мушки!.. Ночуйте, право?..
Знакомый старик – когда-то у нас работал – встречает с самоваром. Нам уже не до чаю. Федя с Антипушкой устраивают Кривую под навесом и уходят в сарай на сено. Домна Панферовна с Анютой ложатся на летней половине, а Горкину потеплей надо. В избе жарко: сегодня пекли хлебы. Старик говорит:
– На полу уж лягте, на сенничке. Кровать у меня богатая, да беда… клопа сила, никак не отобьешься. А тут как в раю вам будет.
… Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают мухи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубахе, и молится. Я плачу и говорю ему:
– Го-оркин… мухи меня кусают, бо-ольно…
– Спи, косатик, – отвечает он шепотом, – каки там мухи, спят давно.
– Да нет, кусают!
– Не мухи… это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка, никак, валятся, ничего не поделаешь. А ты себе спи – и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь… Ну и спи, с Господом.
Но я не могу заснуть. А он все молится.
– Не спишь все… Ну, иди ко мне, поддевочкой укрою. Согреешься – и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся. А что, испугался за меня давеча, а? А ноге-то моей совсем легше, согрелась с муравейков. Ну что… не кусают клопики?
– Нет. Ножки только кусают.
– А ты подожмись, они и не подберутся. А-ах, Господи… прости меня, грешного… – зевает он.
…Старик страшный, в волосах репейки, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь, собачья, кругом обернута, а на ней все замки: и мелкие, и большие, ржавые, и кубастые, а на животе самый большой, будто от ворот. Он как гаркнет на нас: «Пустословы ай богословы?» Горкин говорит ему ласково: «Мы не величаемся, а как Господь». Старик и давай молоть:
– Отмаливаю за всех! Замкну-отомкну, ношу грехи, во́ сколько! Этот пять лет ношу, кабатчиков, с Серпухова! На нем кровь, кро-овь! А это бабьи грехи, укладочные, все мелочь… походя отмыкаю-замыкаю… от духа прохода нет от ихнего, кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете!
А на Домну Панферовну осерчал:
– Ты, толстуха, жрать да жрать? Давай твой замчище… замкну и отомкну! Поношу, дура, за тебя, осилю… пропащая без меня! Воротный давай, с лабаза!
Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди – смиренны, а он хвастун!
– Свою-то грязь посмой! На кирпиче спит на людях, а больную бабенку обидел, бусы порвал! Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы…
Горкин успокаивает ее, а она еще пуще на старика, сердца унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался, гремит замками.
– Черт! – кричит. – Черт, бес!..
И давай плеваться. Тут и все поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое, это от Троицы, из посада, мещанин, замками торговал – и проторговался… а теперь грехи на себя принимает, с людей снимает, носит вериги-замки. Из сумасшедшего дома выпустили его, он невредный».
…Перед Святыми Воротами сидят в два ряда калеки-убогие, тянутся деревянными чашками навстречу и на разные голоса канючат:
– Христа ра-ди… православные, благоде-тели… кормильцы… для пропитания души-тела… родите-лев-сродников… Сергия Преподобного… со присвя-тыи Тро-ицы…
Мы идем между черными, иссохшими руками, между падающими в ноги лохматыми головами, которые ерзают по навозу у наших ног, и бросаем в чашки копеечки. Я со страхом вижу вывернутые кровяные веки, оловянные бельма на глазах, провалившиеся носы, ввернутые винтом под щеки, култышки, язвы, желтые волдыри, сухие ножки, как палочки… И впереди, далеко, к самым Святым Воротам, – машут и машут чашками, тянутся к нам руками, падают головами в ноги. Пахнет черными корками, чем-то кислым.
В Святых Воротах сумрак и холодок, а дальше – слепит от света: за колокольней – солнце, глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула дрожит земля. Я вижу церкви – белые, голубые, розовые – на широком просторе, в звоне. И все, кажется мне, звонят. Ясно светят кресты на небе, сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги, придерживая сверху подбородком, – ковриг по шесть. Хочется есть, кружится голова от хлебного духа теплого – где-то пекарня близко. Отец говорит, что тепленького потом прихватим, а сейчас приложиться надо, пока еще не тесно. Важно идут широкие монахи, мотают четками в рукавах, веет за ними ладаном.
…В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое – Горкин, бывало, пел:
Изведи из темницы ду-шу мо-ю-у!..
Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые лики, пылают пуки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, золотятся-мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку: там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу:
– Голубки живут… это святые голубки, Святой Дух?
Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «Ну, попали мы с тобой в кашу… дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как они обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной – головы и платки, куда-то ползут, ползут, тянут с собой и нас. Все вздыхают и молятся: «Батюшка Преподобный, Угодник Божий… родимый, помоги!..»
Кричит подо мной баба, я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза:
– Ой, пустите… не продохну… девка-то обмерла!..
Ее голова, в черном платке с желтыми мушками, проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова. Кричит за нами:
– Бабу задавили!.. Православные, подайтесь!..
Мне душно от духоты и страха, кружится голова. Пахнет нагретым флердоранжем, отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый:
– Ну, потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас…
Я вижу разные огоньки: пунцовые, голубые, розовые, зеленые – тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут Преподобного – под ними. Высокий худой монах, в складчатой мантии, которая все струится-переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу, или высокий стол, весь окованный золотом, – в нем… накрыто розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет: «В главку целуй». Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий Угодник Божий.
…Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на стене, корзина с просфорами увязана в чистую простыньку. Все провожают нас, желают нам доброго пути.
Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.
– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!..
Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на подымающийся из чаши крест:
Пресвятая Троица, помилуй нас!
Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..
Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались – и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко постукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно, – между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка.
Прощай!..
– Вот мы и помолились, привел Господь… благодати сподобились… – говорит Горкин молитвенно. – Будто теперь и скушно, без Преподобного… а он, батюшка, незримый с нами. Скушно и тебе, милый, а? Ну, ничего, косатик, обойдется… А мы молитовкой подгоняться станем, батюшка-то сказал Варнава… нам и не будет скушно. Зачни-ка тропарек, Федя, – «Стопы моя направи», душе помягче.
Федя нетвердо зачинает, и все поем:
Стопы моя направи по словеси Твоему,
И да не облада-ет мно-о-ю-у…
Вся-ко-е… безза-ко-ни-и-е-е!..
Постукивает тележка. Мы тихо идем за ней.
Июнь 1930 г. – декабрь 1931 г.
Париж – Копбретон.
Як вам? Минуло десятиліття-півтора і сталася Ходинка - пам'ятаєте, розповідав про пів мільйога бажаючих отримати пів фунта дармової ковбаси, коли оці "богомольці" задавили тисячі таких же самих? І в цьому справдешня Росія, а зовсім не в фільмі С. Говорухіна "Россия, которую мы потеряли" - ось коротка аннотація до нього:
"1992 г. 106 мин. Исторический, Социальный документальный
Режиссер Станислав Говорухин.
На протяжении 70 лет проходила массированная пропаганда об отсталой Российской Империи, о рабском положении рабочих и крестьян, о кризисе во всех областях управления государством... В 1914 году французский экономист Эдмон Терри писал: "К середине текущего столетия Росия будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении..."
Через двадцять років ми почули іншу пісню-плач: "Такую страну просрали!" - це вже про СРСР, все ту ж, але перелицьовану Російську імперію. Мені цікаво, в яких виразах через два-три десятиліття москалі плакатимуть за путінською Росією? А плакатимуть же точно - в цьому навіть сумнівів немає.
«Да не обладает мною всякое беззаконие!»… Я оце думаю: з часів, описаних у цих уривках І. Шмельовим, минуло лише кілька десятиліть і куди поділася вся зображена тут «набожність» російського люду? Більшовики сказали – Бога немає! – ніхто й не заперечив. Більше: ті, про кого співали: «Кто бил нічєм, тот станєт всєм», отримали владу і взялися руйнувати церкви, вбивати попів – так швидко і просто зреклися віри?
Така вона, Расєя, і є: століттями нещира, огидна зовні; так само ж огидна всередині. Все брехня – від чистоти помислу до «вєлічія», від віри на позір до «патріархату» без Томоса. Вуха світові прогули про своє «православ’я», «богоизбранность русского народа», прийшли в Україну і чинять неуявиме, неміряне зло – як чинили хіба що в 1169 їхні Андрій Боголюбський чи в 1709 Петро Перший. Не змінилось нічого - ні за три, ні за вісім століть.
«Да не обладает мною всякое беззаконие!»
Володимир ВОРОНА
Иван Шмелёв. «БОГОМОЛЬЕ».
… И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:
– Эка какая хитрость – по машине… А ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют – с машиной не поравнять никак.
…К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся – где же на всех хватит. Прибегает Брехунов и начинает кричать: «Как они пробрались? Гнать их в шею!» Половые гонят богомолок салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Брехунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:
– Мы кусками швыряемся, а вон… А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут… там кого другого поволокут.
И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Брехунов оправдывается, что они сквозь землю пролезут… что вам-то хорошо – попили да пошли, а его прямо одолели!..
– «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают…
– Если бы я был царь, – говорит Федя, – я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы… бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба… А то зимой сколько таких позамерзает!
…Мы стоим на лужку, у речки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках – играют-сверкают крестики. Я кричу:
– Крестики, крестики на воде!..
И все говорят на речку:
– А и вправду… с солнышка крестики играют словно!
Речка кажется мне святой. И кругом все – святое.
Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, – захватила жара в дороге, – в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:
– Благоде-тели… ми-лостивцы, подайте святую милостинку… убогому-безногому… родителев-сродников… для-ради Угодника, во телоздравие, во душеспасение…
Анюта говорит, что видела страшенного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает – всего увидим у Троицы, со всей Расеи туда сползаются. Говорят: вон там какой болезный!
На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать – душу пожалобить. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От больного ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.
– От горя не отворачивайся… грех это!
В ногax у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами: «Дунька… помочи-и…» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалобно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегают слезы:
– Уж такая беда лихая с нами… Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то… на колдобине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец… третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-е-лый да румяный… табе не хуже!
Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.
– И все-то во снях видит… – жалостно говорит старуха, – все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегаю да сено на воз кидаю!»
Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвирку вынет за здравие.
– Михайлой звать-то, – радостно говорит старушка. – Мишенькой зовем.
– Выходит – тезка мне. Ну, Миша, молись – встанешь! – говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.
Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:
– Этот вот старичок сказал, уж ему известно… обязательно, говорит, встанет на ноги… уж ему известно!
Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, – «такой-то ласковый старичок, все знает!».
…На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:
– Он вот водочки вечерком хватит на пятаки-то ваши… сразу исцелится, разделает комаря… таких тут много!
Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:
– Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!
Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:
– Кнутьями их, чертей! Такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..
А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился – а он всегда очень скромный. Горкин его зовет – «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:
– Нехорошо так! Не наводите на грех!..
А они ему:
– Молчи, монах! В триковых штанах!..
Ну что с таких взять: охальники!
Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло, одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.
– А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под креста помой, с верой! – говорит он старушке, которая тоже слушает. – Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо.
Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:
– Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресалям, видно… дураки степные!
Старичок им прямо:
– Сам ты водопровод-напор!
И все мы им грозимся и посошками машем:
– Не охальничайте! Веру не шатайте, шатущие!..
И Горкин сказал: пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет… и водопровод от Бога! А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас – плеск из горлышка, крест-накрест!
– Вот вам мое кропило! Исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..
Так все и ахнули. Горкин кричит:
– Анафема вам, охальники!..
И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя – пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку – пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:
– Ку-най их, ку-най!
Федя как был, в лаковых сапогах, – к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:
– Федя, не утони… смирись!..
А он прямо с плачем кричит, что не может дозволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стукал. Тогда те стали молить – отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали – вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, – и в лопухи. Я смотрю: стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:
– Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.
Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:
– Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.
Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:
– Пусть носит за меня, когда исцелится.
Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень беспременно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, – а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:
– Родимый ты мой, касатик-милостивец… хорошую невесту Господь те пошлет…
А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:
– Простите меня, грешного… самый я грешный.
И многие тут плакали от радости, и я заплакал.
…Солнце невысоко над лесом, жара спадает. Вон уж и Пушкино. Надо перейти Учу и подняться: Горкин хочет заночевать у знакомого старика, на той стороне села. Переходим Учу по смоляному мосту. В овраге засвежело, пахнет смолой, теплой водой и рыбой. Выше – еще тепло, тянет сухим нагревом, еловым, пряным. Стадо вошло в деревню, носятся табунками овцы, стоит золотая пыль. Избы багряно золотятся. Ласково зазывают бабы:
– Чай, устали, родимые? Ночуйте… свежего сенца постелим, ни клопика, ни мушки!.. Ночуйте, право?..
Знакомый старик – когда-то у нас работал – встречает с самоваром. Нам уже не до чаю. Федя с Антипушкой устраивают Кривую под навесом и уходят в сарай на сено. Домна Панферовна с Анютой ложатся на летней половине, а Горкину потеплей надо. В избе жарко: сегодня пекли хлебы. Старик говорит:
– На полу уж лягте, на сенничке. Кровать у меня богатая, да беда… клопа сила, никак не отобьешься. А тут как в раю вам будет.
… Я просыпаюсь от жгучей боли, тело мое горит. Кусают мухи? В зеленоватом свете от лампадки я вижу Горкина: он стоит на коленях, в розовой рубахе, и молится. Я плачу и говорю ему:
– Го-оркин… мухи меня кусают, бо-ольно…
– Спи, косатик, – отвечает он шепотом, – каки там мухи, спят давно.
– Да нет, кусают!
– Не мухи… это те, должно, клопики кусают. Изба-то зимняя. С потолка, никак, валятся, ничего не поделаешь. А ты себе спи – и ничего, заспишь. Ай к Панферовне те снести, а? Не хочешь… Ну и спи, с Господом.
Но я не могу заснуть. А он все молится.
– Не спишь все… Ну, иди ко мне, поддевочкой укрою. Согреешься – и заснешь. С головкой укрою, клопики и не подберутся. А что, испугался за меня давеча, а? А ноге-то моей совсем легше, согрелась с муравейков. Ну что… не кусают клопики?
– Нет. Ножки только кусают.
– А ты подожмись, они и не подберутся. А-ах, Господи… прости меня, грешного… – зевает он.
…Старик страшный, в волосах репейки, лежит головой на кирпиче. Подходим, а он распахнул дерюжную кофту, а там голое тело, черное, в болячках, и ржавая цепь, собачья, кругом обернута, а на ней все замки: и мелкие, и большие, ржавые, и кубастые, а на животе самый большой, будто от ворот. Он как гаркнет на нас: «Пустословы ай богословы?» Горкин говорит ему ласково: «Мы не величаемся, а как Господь». Старик и давай молоть:
– Отмаливаю за всех! Замкну-отомкну, ношу грехи, во́ сколько! Этот пять лет ношу, кабатчиков, с Серпухова! На нем кровь, кро-овь! А это бабьи грехи, укладочные, все мелочь… походя отмыкаю-замыкаю… от духа прохода нет от ихнего, кошачьего. С вас мне нечего взять, сами свое донесете!
А на Домну Панферовну осерчал:
– Ты, толстуха, жрать да жрать? Давай твой замчище… замкну и отомкну! Поношу, дура, за тебя, осилю… пропащая без меня! Воротный давай, с лабаза!
Домна Панферовна заплевалась и давай старика отчитывать. Святые люди – смиренны, а он хвастун!
– Свою-то грязь посмой! На кирпиче спит на людях, а больную бабенку обидел, бусы порвал! Таких дармоедов палкой надо, в холодную бы…
Горкин успокаивает ее, а она еще пуще на старика, сердца унять не может. Старик как вскинется на нее, словно с цепи сорвался, гремит замками.
– Черт! – кричит. – Черт, бес!..
И давай плеваться. Тут и все поняли, что он совсем разум потерял. Приходит монах с пещерок и говорит: «Оставьте его в покое, это от Троицы, из посада, мещанин, замками торговал – и проторговался… а теперь грехи на себя принимает, с людей снимает, носит вериги-замки. Из сумасшедшего дома выпустили его, он невредный».
…Перед Святыми Воротами сидят в два ряда калеки-убогие, тянутся деревянными чашками навстречу и на разные голоса канючат:
– Христа ра-ди… православные, благоде-тели… кормильцы… для пропитания души-тела… родите-лев-сродников… Сергия Преподобного… со присвя-тыи Тро-ицы…
Мы идем между черными, иссохшими руками, между падающими в ноги лохматыми головами, которые ерзают по навозу у наших ног, и бросаем в чашки копеечки. Я со страхом вижу вывернутые кровяные веки, оловянные бельма на глазах, провалившиеся носы, ввернутые винтом под щеки, култышки, язвы, желтые волдыри, сухие ножки, как палочки… И впереди, далеко, к самым Святым Воротам, – машут и машут чашками, тянутся к нам руками, падают головами в ноги. Пахнет черными корками, чем-то кислым.
В Святых Воротах сумрак и холодок, а дальше – слепит от света: за колокольней – солнце, глядит в пролет, и виден черный огромный колокол, будто висит на солнце. От благовеста-гула дрожит земля. Я вижу церкви – белые, голубые, розовые – на широком просторе, в звоне. И все, кажется мне, звонят. Ясно светят кресты на небе, сквозные, легкие. Реют ласточки и стрижи. Сидят на булыжной площади богомольцы, жуют монастырский хлеб. Служки в белом куда-то несут ковриги, придерживая сверху подбородком, – ковриг по шесть. Хочется есть, кружится голова от хлебного духа теплого – где-то пекарня близко. Отец говорит, что тепленького потом прихватим, а сейчас приложиться надо, пока еще не тесно. Важно идут широкие монахи, мотают четками в рукавах, веет за ними ладаном.
…В церкви темно и душно. Слышно из темноты знакомое – Горкин, бывало, пел:
Изведи из темницы ду-шу мо-ю-у!..
Словно из-под земли поют. Плачут протяжно дети. Мерцает позолота и серебро, проглядывают святые лики, пылают пуки свечей. По высоким столбам, которые кажутся мне стенами, золотятся-мерцают венчики. В узенькие оконца верха падают светлые полоски, и в них клубится голубоватый ладан. Хочется мне туда, на волю, на железную перекладинку, к голубку: там голубки летают, сверкают крыльями. Я показываю отцу:
– Голубки живут… это святые голубки, Святой Дух?
Отец вздыхает, подкидывает меня, меняя руку. Говорит все, вздыхая: «Ну, попали мы с тобой в кашу… дышать нечем». На лбу у него капельки. Я гляжу на его хохол, весь мокрый, на капельки, как они обрываются, а за ними вздуваются другие, сталкиваются друг с дружкой, делаются большими и отрываются, падают на плечо. Белое его плечо все мокрое, потемнело. Он закидывает голову назад, широко разевает рот, обмахивается платочком. На черной его шее надулись жилы, и на них капельки. Подо мной – головы и платки, куда-то ползут, ползут, тянут с собой и нас. Все вздыхают и молятся: «Батюшка Преподобный, Угодник Божий… родимый, помоги!..»
Кричит подо мной баба, я вижу ее запавшие, кричащие на меня глаза:
– Ой, пустите… не продохну… девка-то обмерла!..
Ее голова, в черном платке с желтыми мушками, проваливается куда-то, а вместо нее вылезает рыжая чья-то голова. Кричит за нами:
– Бабу задавили!.. Православные, подайтесь!..
Мне душно от духоты и страха, кружится голова. Пахнет нагретым флердоранжем, отец машет на меня платочком, но ветерка не слышно. Лицо у него тревожное, голос хриплый:
– Ну, потерпи, голубчик, вот подойдем сейчас…
Я вижу разные огоньки: пунцовые, голубые, розовые, зеленые – тихие огоньки лампад. Не шелохнутся, как сонные. Над ними золотые цепи. Под серебряной сенью висят они, повыше и пониже, будто на небе звездочки. Мощи тут Преподобного – под ними. Высокий худой монах, в складчатой мантии, которая все струится-переливается в огоньках свечей, недвижно стоит у возглавия, где светится золотая Троица. Я вижу что-то большое, золотое, похожее на плащаницу, или высокий стол, весь окованный золотом, – в нем… накрыто розовой пеленой. Отец приклоняет меня и шепчет: «В главку целуй». Мне страшно. Бледный палец высокого монаха, с черными горошинами четок, указывает мне прошитый крестик из сетчатой золотой парчи на розовом покрове. Я целую, чувствуя губами твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь Преподобный Сергий, великий Угодник Божий.
…Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на стене, корзина с просфорами увязана в чистую простыньку. Все провожают нас, желают нам доброго пути.
Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.
– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!..
Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на подымающийся из чаши крест:
Пресвятая Троица, помилуй нас!
Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..
Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались – и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко постукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно, – между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка.
Прощай!..
– Вот мы и помолились, привел Господь… благодати сподобились… – говорит Горкин молитвенно. – Будто теперь и скушно, без Преподобного… а он, батюшка, незримый с нами. Скушно и тебе, милый, а? Ну, ничего, косатик, обойдется… А мы молитовкой подгоняться станем, батюшка-то сказал Варнава… нам и не будет скушно. Зачни-ка тропарек, Федя, – «Стопы моя направи», душе помягче.
Федя нетвердо зачинает, и все поем:
Стопы моя направи по словеси Твоему,
И да не облада-ет мно-о-ю-у…
Вся-ко-е… безза-ко-ни-и-е-е!..
Постукивает тележка. Мы тихо идем за ней.
Июнь 1930 г. – декабрь 1931 г.
Париж – Копбретон.
Як вам? Минуло десятиліття-півтора і сталася Ходинка - пам'ятаєте, розповідав про пів мільйога бажаючих отримати пів фунта дармової ковбаси, коли оці "богомольці" задавили тисячі таких же самих? І в цьому справдешня Росія, а зовсім не в фільмі С. Говорухіна "Россия, которую мы потеряли" - ось коротка аннотація до нього:
"1992 г. 106 мин. Исторический, Социальный документальный
Режиссер Станислав Говорухин.
На протяжении 70 лет проходила массированная пропаганда об отсталой Российской Империи, о рабском положении рабочих и крестьян, о кризисе во всех областях управления государством... В 1914 году французский экономист Эдмон Терри писал: "К середине текущего столетия Росия будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении..."
Через двадцять років ми почули іншу пісню-плач: "Такую страну просрали!" - це вже про СРСР, все ту ж, але перелицьовану Російську імперію. Мені цікаво, в яких виразах через два-три десятиліття москалі плакатимуть за путінською Росією? А плакатимуть же точно - в цьому навіть сумнівів немає.
«Да не обладает мною всякое беззаконие!»… Я оце думаю: з часів, описаних у цих уривках І. Шмельовим, минуло лише кілька десятиліть і куди поділася вся зображена тут «набожність» російського люду? Більшовики сказали – Бога немає! – ніхто й не заперечив. Більше: ті, про кого співали: «Кто бил нічєм, тот станєт всєм», отримали владу і взялися руйнувати церкви, вбивати попів – так швидко і просто зреклися віри?
Така вона, Расєя, і є: століттями нещира, огидна зовні; так само ж огидна всередині. Все брехня – від чистоти помислу до «вєлічія», від віри на позір до «патріархату» без Томоса. Вуха світові прогули про своє «православ’я», «богоизбранность русского народа», прийшли в Україну і чинять неуявиме, неміряне зло – як чинили хіба що в 1169 їхні Андрій Боголюбський чи в 1709 Петро Перший. Не змінилось нічого - ні за три, ні за вісім століть.
«Да не обладает мною всякое беззаконие!»
Володимир ВОРОНА
| Читайте також |
| Коментарі (0) |